Покровский валентин иванович перелом шейки бедра

Покровский? Это тот, у которого история начиналась с декабристов? А Разины – Пугачёвы объявлялись “прогрессивно – буржуазными”?!
Дальше – смех. И сомнения: да был ли этот академик вообще… грамотным?! Но смех замирает при мысли, что именно этот академик, заместитель Луначарского стал, по сути, основателем советской системы образования. Той самой, которая будет признана лучшей в мире.
Присмотримся…
Дворянин по происхождению (сын статского советника, начальника таможни!), Михаил Николаевич Покровский, однако, унаследовал от родителей убеждения самые демократические. Воспитанный на Некрасове и Передвижниках, он ещё в гимназические годы привык мыслить категориями “народа”, его пользы, свободы и счастья.
Для того, кто родился в семье, благополучной и состоятельной, в Москве в 1868 году, дальнейший жизненный путь, казалось, был предопределён: гимназия – Университет – научная карьера. Жрец науки, кабинетный учёный.
Гимназия была окончена с Золотой медалью, учитель – крупнейший русский историк Ключевский, оставил одарённого юношу при Университете “для подготовки к профессорскому званию”. Но…
По самому складу своего характера Михаил Николаевич не был жрецом чистой науки – свою задачу он видел в том, чтобы нести знания в народ.
Удивительно, как он успевал сотрудничать в нескольких научных журналах, преподавать в гимназии и на Бестужевских курсах, участвовать в общественных просветительских организациях – и всё это одновременно!
Читая лекции, Покровский использовал нелегальные издания. Это и обратило на него внимание сначала полиции, а затем и либералов из “Союза освобождения”.
Но в ходе революции 1905 года Покровский навсегда решил для себя, что единственная революционная партия в России – это большевики. Сотрудничая в “Правде” и “Искре” он, однако, ещё не верил в реальность взятого курса на вооружённое восстание.
Жизнь опередила все прогнозы – восстание началось, и Покровский устраивает в своей квартире перевязочный пункт для рабочих, раненых на баррикадах.
После того, как Покровский был избран членом ЦК РСДРП, ему пришлось перейти на нелегальное положение. И до самой Февральской революции он числился в списках разыскиваемых политических преступников.
Период эмиграции – с 1907 по 1917 год, оказался очень плодотворным для Покровского, как для историка. Он пишет статьи для энциклопедического словаря Гранат, создаёт свою капитальную
“Русскую историю с древнейших времён”, а также “Очерки истории русской культуры”. В России его работы сразу же попали под цензурный запрет
Почему?
Первым из русских историков Покровский попытался объяснить, что история – не цепь случайностей, не результат деятельности “абсолютного духа” или необыкновенных, великих людей.
Объективными историки станут не прежде, чем выработают “технику исторического исследования”, не менее точную, чем инженерная.
Ключ к историческим исследованиям – экономический материализм, что все события истории можно объяснить, исходя из уровня технического развития общества.
Позже Покровский сам убедился, что метод срабатывает далеко не всегда, но тогда попытка объяснить ход истории чем-то кроме божьего промысла была абсолютно новаторской.
С августа 1917 года Покровский становится одним из самых деятельных участников Октябрьской революции, участвует в заключении Брестского мира, и… едва не срывает переговоры – столь грабительскими казались ему условия, выдвинутые Германией. Справедливо казались!
Но после этого Ленин даёт Покровскому лишь те посты и поручения, где он может работать по призванию, как учёный. Ему поручена разработка реформы высшего образования.
“Правительственная установка” была самой общей – преподавание общественных дисциплин, и прежде всего истории, отныне должно было вестись на основах марксизма. Исторического и диалектического материализма. А конкретные формы преподавания, методики и содержание курсов – в этом академик Покровский был свободен.
Это он настоял на бесплатности образования всех уровней.
Это его инициативой стала организация РАБФАКА – факультетов рабочей молодёжи при институтах. Ведь дореволюционная школа (гимназия – реальное училище – начальная – народная – церковно-приходская – национальная (хедер, например) давала образование разного уровня, качественно разное! И для того, чтобы подготовить молодых рабочих и крестьян в институты, пришлось разработать программу ускоренного, двухлетнего “выравнивания”. Для тех, кому при прежней власти путь к высшему образованию был закрыт.
Попасть на эти курсы мог далеко не каждый – направляли лучших.
Рабфак стал одним из символов великой эпохи.
В 1922 году Покровский издаёт первый послереволюционный учебник истории.
Общий принцип его курса –
прежде всего донести до учащихся те факты, те события и имена, которые продолжают оказывать влияние на сегодняшнюю жизнь, объясняют происходящее с нами, обнаруживают истоки современности.
Ведь зная законы развития общества, можно делать прогнозы на годы, и даже на столетия.
“Тот, кто знает прошлое, господствует над будущим”.
Впервые в учебнике для народа Россией управляют не Божьи Помазанники – Великие Государи, и впервые “народ” перестал быть всего лишь фоном для этого действа.
Русский крестьянин (в крестьянской стране он и есть “типичный русский”) – это не свято – юродивое существо! История крестьянских восстаний, революционного движения, борьбы за жизнь, достойную Человека – обо всём этом в учебнике Покровского было рассказано народу ВПЕРВЫЕ!
А для нас теперь это – обычное содержание школьного учебника.
Оценки людей и событий меняются с изменениями генеральной линии, но чтобы всё это … замалчивалось? Чтобы авторы делали вид, что в нашей истории не было, например, “Народной воли”? Немыслимо!
Но всё “обычное” кто – то сделал впервые.
Заместитель наркома Просвещения Луначарского, Покровский настоял на открытых конкурсах для замещения всех должностей в Университетах, и на коллегиальном управлении учебными заведениями.
И на том, что ныне забыто: на ОБЯЗАННОСТИ как преподавателей, так и учащихся вести общественную работу. Бесплатные курсы, лекции, экскурсии – для тех, кто пока не понял необходимости учиться. Пока…
Неутомимость, одержимость этого человека поражала воображение.Национализация и систематизация фондов музеев, архивов и библиотек, декреты об охране памятников искусства и старины, новая орфография… Можно ли было быть “против”? И кому?
Но целый разряд работников просвещения считал себя кровно обиженным Покровским – старая профессура.
Отстранение коллег от преподавания (при том что писать и печататься им не запрещалось), привилегии при поступлении абитуриентам с “правильным” происхождением – это не могло не создать академику врагов.
Обвинения в “вульгаризации” науки, в “примитивизме” следовали одно за другим.
И ведь нельзя сказать, чтоб они были безосновательны!“История – это политика, обращённая в прошлое”.
Эта крылатая фраза Покровского цитируется всеми историками, и правыми, и левыми, когда надо объяснить необходимость очередной “смены полюсов”.
Но ведь и в самом деле те, кому довелось учиться по учебникам Покровского вспоминают, что восстание Пугачёва в нём объявлялось “прогрессивно-буржуазным”, а всё, что было ДО начала революционного движения – это ПРЕДЫСТОРИЯ.
И коллеги, и следующее поколение историков критиковали эти “перегибы” вполне справедливо. Но при этом не оспаривали роли Покровского в становлении советской школы.
Умер Покровский в 1932 году, похоронен на Красной площади у Кремлёвской стены.
Потомки вольны считать себя умнее, прогрессивнее и дальновиднее.
Но ведь дальше видят те, кто стоит на плечах гигантов.
***
Забавный штрих к портрету нашего времени:
В порядке декоммунизации на Украине город Красноармейск переименован в Покровск. Основательно, видно, забыли красного академика!
Источник
Российские старики стали часто падать и ломать шейку бедра.
Когда-то и советские старики падали. Но я не помню, чтобы советские старики ломали шейку бедра. То ли у советских стариков кости были крепкие, то ли падали они как-то иначе.
А сейчас это стало уж каким-то поветрием. Только и слышишь: то у одного знакомого престарелый родитель шейку бедра сломал, то у другого.
А падают старики, кто как: кто в собственной квартире упадёт, споткнувшись об электрический шнур, кто в ванной, поскользнувшись на кафельном полу, а кто во дворе, угодив ногой в яму. Падают старики с лестниц, с подножек автобусов, трамваев, а бывает, падают и на ровном месте.
И, казалось бы, дело-то обыденное, а при нашей российской передовой медицине и неопасное. Но в действительности не так всё просто. Если старику-то, сломавшему шейку бедра, шестьдесят-семьдесят лет, то быть может, и просто, прооперируют, и на ноги поставят старика, в худшем случае, с палочкой ходить будет или на костылях – велика ли беда-то.
И как я ни просил, ни умолял хирурга прооперировать мою маму, получал отказ.
А маме-то моей уж за восемьдесят было, и сердце больное, и диабет. И хирурга-то понять можно было, ведь смерть моей мамы на операционном столе и впрямь подпортила бы его репутацию, да и показатели работы всей больницу пострадали бы. А уж жалобу-то в прокуратуру на хирурга я непременно бы написал.
И лежала моя мама месяца два в постели, и умирала в пролежнях, в собственной моче (памперсов тогда в продаже не было), и кричала от невыносимой боли.
Это случилось в девяностые годы, но и сейчас, по прошествии стольких лет, ничего к лучшему для стариков преклонного возраста со сломанной шейкой бедра не изменилось. И умирают старики сотнями, тысячами, по всей-то стране.
Как-то смотрел я медицинскую телепередачу, которую ведёт известный в России доктор, проработавший много лет в американских клиниках. И затронул известный доктор больную для россиян проблему – лечение перелома шейки бедра. И укорил он российских хирургов, отказывающих в операциях старикам преклонного возраста.
Жалко мне российских стариков. Да я и сам-то такой старик, и с букетом всяческих болезней. И не дай Бог мне упасть и сломать шейку бедра, ведь это уж тогда верная смерть. А пожить-то ещё и хочется!
Остановился я, и человек остановился, видимо, устал и передохнуть решил.
А человек оказался старичком лет семидесяти пяти, маленького росточка, с лицом каким-то невыразительным, как бы стёртым.
А я стоял, смотрел старичку вслед, и было мне как-то грустно. И было так жалко старичка, что я даже прослезился.
Но суждено мне было увидеть несчастного старичка с ходунками ещё раз, но уже при других обстоятельствах.
Намедни зашёл я в поликлинику, надо мне было попасть на приём к ЛОР-врачу, чтобы он серную пробку из уха моего вымыл, совсем уж я оглох. Вхожу я в холл поликлиники, к регистратуре направляюсь, и вдруг вижу у лестницы, ведущей на второй этаж, где врачи в своих кабинетах пациентов принимают, стоят ходунки. И вспомнил я несчастного старичка с ходунками, встретившегося мне на улице. И подумал я: уж не его ли ходунки-то у лестницы стоят, неужели помогли ему доктора-то, и он своими ногами ходит, а где же он сам-то, хоть бы взглянуть на него, поздороваться.
Но поторопился я со своими выводами. Вижу я: по лестнице, ведущей на второй этаж, человек ползёт. Пригляделся – и глазам своим не поверил: узнал я в ползущем по лестнице моего знакомого старичка со сломанной и неудачно прооперированной шейкой бедра. И удивился я, как ловко он, цепляясь за ступени, подтягиваясь, поджимая ноги, преодолел уже половину лестницы. И ещё удивило меня, что поднимавшиеся и спускавшиеся по лестнице врачи и медсёстры в белых халатах на ползущего по ступеням пациента не обращали никакого внимания.
И подумал я, что, видимо, такой оригинальный способ передвижения по лестнице для неходячих пациентов в этой поликлинике – единственная возможность попасть на приём к лечащему врачу. И я пожелал моему старичку благополучно преодолеть оставшиеся ступени, и уже по коридору доползти до кабинета хирурга.
Найдётся немало гуманистов, которые будут жалеть таких стариков и говорить, что любая человеческая жизнь бесценна, и если уж российские хирурги боятся или не умеют оперировать стариков преклонного возраста, сломавших шейку бедра, то необходимо приглашать в наши больницы американских хирургов, на худой конец, немецких, израильских, и не жалеть на это средств.
Но найдутся и деятели, которые будут возражать гуманистам и говорить, что транжирить миллионы на каких-то стариков, сломавших по своей же неосторожности шейку бедра, не экономично и даже глупо, и не разумнее ли будет направлять миллионы долларов в реальную экономику, на развитие промышленности и сельского хозяйства. И с такими деятелями, вероятнее всего, согласятся.
Источник
«Яркий, самобытный и совершенно простой и доступный в общении. Он очень деликатно рассуждал о месте эпидемиологии и инфекционных болезней», — так запомнил первую встречу с Валентином Покровским член правления Национального научного общества инфекционистов, профессор Владимир Петров. Ученые познакомились в 1983 году, когда 54-летний Валентин Покровский уже был членом-корреспондентом Академии медицинских наук СССР, а сам Петров — клиническим ординатором.
«Вклад академика Покровского в науку нам еще предстоит оценить. Но, главное, на мой взгляд, в том, что ему удалось на трудном этапе развития отечественной науки, на перепутье начала 90-х, консолидировать медицинские научные силы, когда он возглавил Академию медицинских наук СССР. Именно на его плечи легла вся тяжесть реформирования и сохранения научного потенциала здравоохранения», — рассказал «СПИД.ЦЕНТРу» ученый.
По словам Петрова, в Покровском удивительным образом уживались врач-инфекционист, эпидемиолог-исследователь, ученый фундаментальных дисциплин, организатор науки, общественный и государственный деятель: «Его многогранная научная деятельность в сочетании с феноменальной способностью предвидеть запросы практического здравоохранения, уникальные качества организатора и руководителя обеспечили на многие годы поступательное развитие отечественного здравоохранения в целом».
«Ученые как Покровский — это целая эпоха, которая почти ушла. Они вышли после войны, восстановили, создали и посвятили себя развитию науки. Мы все учились по их учебникам, считая их недостижимыми и неприкасаемыми. Можно было только смотреть на их фамилии и молиться, но они оказались совершенно открытыми, доступными, — вспоминает в разговоре со «СПИД.ЦЕНТРом» бывший коллега Валентина Ивановича, доктор медицинских наук Денис Усенко. — Каждый может прийти и уйти, заметно или не очень, но такие люди приходят для того, чтобы земля крутилась после них долго. Это и талант, труд, уникальная добродетель ко всем».

Ученые сходятся во мнении, что измерить масштаб личности Покровского невозможно.
Как Покровский стал великим ученым
Окончив школу в подмосковном поселке Клязьма, Валентин Покровский, по его же воспоминаниям, не сразу осознал, какому делу хочет посвятить свою жизнь. «Я ходил по всем институтам, и единственный, куда я не заходил, — это медицинский», — вспоминал он в одном из интервью. С выбором вуза помогли определиться мама и тетя, сказав, что врач — лучшая профессия. Так будущий академик подал документы в Сеченовский университет.
Однажды Покровскому и его однокурснику дали задание провести опыт с газообменом. «Чтобы проследить, нет ли утечки газа, обычно использовалась сигарета. Видимо, мы слишком близко ее поднесли — вспыхнуло. В результате камера сгорела, крысы тоже сгорели, мы тоже обгорели — у одного сгорела бровь, у другого прядь волос. Я хорошо это помню, потому что была масленица и после этого мы пошли есть блины», — вспоминал академик.
В студенчестве Покровский посещал научный кружок на кафедре инфекционных болезней под руководством профессоров Штейншнейдера, Бунина и Булкиной, затем пошел в клиническую ординатуру института. Уже в 1955 году Покровский защитил кандидатскую диссертацию по теме «Клиническое течение брюшного тифа и состояния некоторых защитных функций организма при лечении синтомицином».
Затем будущий академик работал доцентом кафедры инфекционных болезней Первого Медицинского университета имени Сеченова. По воспоминаниям Дениса Усенко, выступая на собрании студентов Сеченовского университета, Покровский всегда говорил будущим врачам: «Каждый из нас носит в сердце напутствия своего учителя, а потому и вечна традиция российской медицины: отдавать больному все силы своей души».
С 1965 по 1987 год Покровский заведовал курсом, а затем и кафедрой инфекционных болезней Московского медицинского стоматологического института имени Н. А. Семашко (ныне им. А. И. Евдокимова), а по линии Минздрава СССР Покровского назначили главным внештатным инфекционистом и заместителем директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии.

«В его работе поражала память. Он, казалось, знал каждого инфекциониста-исследователя. Позже мне довелось как-то принимать участие в составлении программы научного форума, — вспоминает академик Владимир Петров. — Валентин Иванович предполагал, о чем каждый из участников будет говорить. Он как-то сказал: “А зачем мы включаем в программу профессора N? Он уже третий год об одном и том же рассказывает. Давайте пригласим доктора X, у него есть интересные статьи по этому вопросу”. И назвал фамилию и город, где работал этот молодой врач. Это было 4–5 лет назад, когда Валентин Иванович уже был просто недосягаемым академиком и корифеем. Но он постоянно следил за всем, что происходит в инфекционных болезнях и эпидемиологии. Ему было дело до всего. И особенно остро он воспринимал новое».
Первое открытие и эпидемии Покровского
В начале 70-х годов в СССР разразилась эпидемия менингококковой инфекции. На борьбу с эпидемией были направлены бригады инфекционистов под руководством Покровского. Тогда ученый первым в мире предложил революционное решение: применять массивные дозы пенициллина, вводя его внутримышечно, а позднее — и внутривенно. «Я пошел на риск, потому что предложил лечить больных не по инструкции», — вспоминал он в одном из интервью.
После ликвидации очагов эпидемии Покровский опубликовал итоговые результаты исследований и лечения бактериального гнойного менингита в многочисленных статьях и в отдельной фундаментальной работе «Менингококковая инфекция».
СССР довольно успешно боролся с инфекционными заболеваниями. В частности, в конце 60-х годов считалось, что на территории страны полностью побеждены менингококковая инфекция и сыпной тиф. Впрочем, случались рецидивы.

Как-то Валентина Покровского командировали в Туркмению на борьбу со вспышкой чумы. «Я сразу пошел в инфекционную больницу и у одного пациента увидел классический сыпной тиф, смотрю второго — похож. Спрашиваю врача, молодую туркменку:
— Что ж ты, миленькая, не видишь, что это сыпной тиф? Ты какой диагноз ставишь?
— Геморрагическая форма гриппа.
— Вот фантазерка, а почему ж не сыпной?
— А в вашем учебнике написано, что сыпной тиф в Советском Союзе ликвидирован.
Хорошая мне была пощечина дана», — вспоминал ученый.
Вспышка холеры в Астрахани
Холера оставалась одной из самых опасных инфекционных болезней до середины XX века. Она косила целые города и уносила миллионы жизней. В 1970 году пандемия холеры, от которой умирали 30 % зараженных, достигла южных регионов СССР. Заболевание вселяло страх не только в обычных граждан, но и в самих медиков, которые даже в 40-градусную жару не снимали противочумные костюмы.
Покровский возглавил группу ученых-клиницистов и врачей и отправился в эпицентр событий — Астрахань. «Когда мы туда прилетели и пришли в больницу, меня просто ошарашил вид медперсонала: все в противочумных костюмах, масках, сапогах — и это при температуре 40 градусов в тени, — вспоминал ученый. — И тогда, может быть, немного бравируя, мы пошли к пациентам в чем были. <…> Я сел на постель больного, хотя так делать не положено, но тогда нужно было сделать именно так». Своим поступком ученый хотел сломать синдром страха врачей перед инфекцией, и ему это удалось.
«Его способность предвидеть поражает. И потом, когда он, уже предвидев, приезжает, находит контакт с людьми, он очень быстро решает все проблемы», — вспоминал в том же интервью академик РАН, действующий советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев.

Покровский первым разработал новую клиническую классификацию холеры на основе оценки степени дегидратации. Она позволила оказывать неотложную помощь даже в полевых условиях, а главное — снизить летальность эпидемии до единичных случаев.
Вклад в борьбу с ВИЧ и 90-е
В 80-х годах прошлого века, когда началась эпидемия вируса иммунодефицита человека, Валентин Покровский организовал службу по диагностике и профилактике ВИЧ-инфекции. Он диагностировал первые случаи заболевания в стране, создал сеть лабораторий по выявлению больных, наладил их учет, разработал противоэпидемические мероприятия, высказал научно обоснованные предположения о возможности распространения ВИЧ-инфекции в стране. Под его руководством Минздравом России была создана и утверждена концепция профилактики внутрибольничных инфекций.
В начале 90-х годов Покровский предложил создать факультет подготовки научных и педагогических кадров из наиболее талантливых студентов в своей альма матер — Московской медицинской академии имени И. М. Сеченова (ныне Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова). Впоследствии была создана международная школа «Медицина будущего».
С 1971 года Покровский почти полвека возглавлял Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии Роспотребнадзора. «Его детище — ЦНИИЭ Роспотребнадзора — одна из самых сильных научных организаций на сегодня. С первых дней создания он был заместителем директора, а потом и директором на протяжении 47 лет. Причем настолько успешным, что сейчас этот институт — один из первых в России, занимающихся проблемой инфекционных болезней, и в том числе коронавирусной инфекции, — рассказал “СПИД.ЦЕНТРу” Денис Усенко. — Каждый сотрудник института мог в любое время зайти к Валентину Ивановичу и получить помощь. Дверь к нему всегда была открыта».
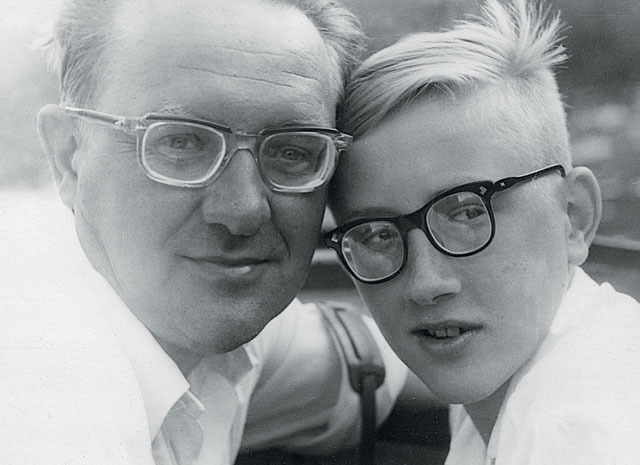
В последние годы он занимал в институте пост советника директора по инновациям. Сын Валентина Покровского — Вадим Покровский — также известный ученый, действительный член РАН и руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИД.
Источник
