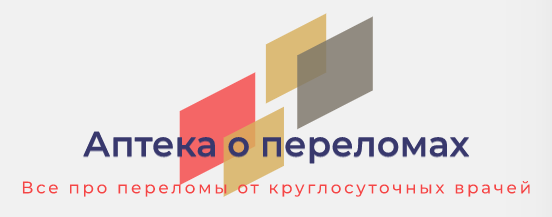Год великого перелома белов часть 4

Василий Белов
ГОД ВЕЛИКОГО ПЕРЕЛОМА
Хроника начала 30-х годов
«Всеобщая война, которая разразится, раздробит славянский союз и уничтожит эти мелкие тупоголовые национальности вплоть до их имени включительно.
Да, ближайшая всемирная война сотрет с лица земли не только реакционные классы и династии, но и целые реакционные народы, и это также будет прогрессом».
«… Мы знаем теперь, где сосредоточены враги революции: в России и в славянских землях Австрии… Мы знаем, что нам делать: истребительная война и безудержный террор».
Фр. Энгельс
Часть первая
I
После величайшей смуты, унесшей в своем знобящем вихре миллионы жизней, не прошло и десяти лет, а Россия и Украина уже стояли вблизи очередной, не менее страшной трагедии. Казалось, все силы зла снова ополчились на эту землю. Вступая на пустующий императорский трон, знал ли угрюмый Генсек, что через несколько лет, в день своего пятидесятилетнего юбилея, он швырнет им под ноги сто миллионов крестьянских судеб? За все надо чем-то платить, даже за наркомовскую фуражку. А тут неожиданно подвернулась аж Мономахова шапка…
И когда б в стране имелся хотя бы один-единственный не униженный монах-летописец, может, появилась бы в летописном свитке такая запись: «В лето одна тысяча девятьсот двадцать девятого года в Филиппов пост попущением Господним сын гродненского аптекаря Яков Аркадьевич Эпштейн (Яковлев) поставлен бысть в Московском Кремле комиссаром над всеми христианы и землепашцы».
Таких летописцев не было.
Сонмы иных писателей вопили о кулаках и о правой опасности. Кто был опасен и главное для кого? Троцкий покинул страну вместе с двумя вагонами награбленного, но перед тем он раскидал семена своих антимужицких идей на тысячеверстных пространствах России. Разнесенные ветрами двух последних десятилетий, эти семена тут и там смело пускали ростки, укреплялись и махрово цвели, давая новые обильные семена, уже не боящиеся ни сибирских морозов, ни степных суховеев.
Совсем недавно Россия давала третью часть мирового хлебного экспорта. Что-то будет теперь? Эпштейн, возглавляя сельское хозяйство великой державы, не ведал разницы между озимым и яровым севом. Конечно же, подобно младшим своим соратникам Вольфу и Беленькому, Клименко и Каминскому, Бауману и Каценельбогену, он на все лады раздраконивал и клеймил троцкистов.
Он ничего не боялся.
5 декабря 1929 года его шеф Каганович — этот палач народов — за несколько минут накидал список из двадцати одного кандидата в состав изуверской комиссии. Политбюро утвердило. И уже через три дня Яковлев сварганил восемь подкомиссий, которые тотчас начали разрабатывать грандиозный план невиданного в истории преступления. В тот же день, то есть 8 декабря, Яковлев стал комиссаром российского земледелия.
В субботу и воскресенье 14–15 декабря все восемь подкомиссий непрерывно заседали, после чего были поспешно приняты предложения председателя колхозцентра Г. Н. Каминского — одного из главных подручных новоиспеченного комиссара земледелия. Речь в этих предложениях шла главным образом о сроках раскулачивания. Они торопились, дорвавшись до власти! В понедельник и вторник, 16–17 декабря, шабаш продолжился с новой силой, а в среду, 18 декабря, комиссия уже утвердила проект постановления. В портфель Якова Аркадьевича легла уютная папка с листами, испещренными теми сатанинскими знаками, которые программировали жизнь, а вернее смерть миллионов людей. Они, эти знаки, предрекали гибельный путь для великой страны, в значительной мере определявшей будущее целого мира!
Да, бумаги были готовы, они ждали, и теперь все зависело от «шашлычника» или «семинариста», как троцкисты за глаза называли Генерального. Очередное Политбюро планировалось провести в понедельник, но в субботу Сталину исполняется пятьдесят. И в его маленькой полукруглой гостиной в узком кругу, за стаканами с прекрасным красным и белым кавказским вином наверняка зайдет речь о тезисах Яковлева.
Надвигалась решающая суббота…
* * *
Сталин был раздражен собственным юбилеем и множеством поздравлений, напечатанных в «Правде». Волей-неволей приходилось подбивать жизненные итоги, но они, по его мнению, были не столь внушительными, чтобы с легким сердцем выслушивать и вычитывать пышные славословия. И сегодня, в этот субботний день, он был раздражен больше обычного. Но чем сильней становилось это внутреннее раздражение, тем неторопливей были его движения.
Обед, завершенный молча, обидел жену, но Сталин редко замечал не собственные обиды. А когда замечал, то сразу же забывал их, считая, что в его положении иначе нельзя. Он так и не ответил ей, кто приглашен на вечер и в котором часу накрыть стол. Поднялся, с добрым улыбчивым прищуром взглянул на детей и, слегка косолапя, вразвалку, но довольно проворно ушел из гостиной в свой маленький кабинетик. Он знал, что недоумение, оставленное им, немедленно превратится в еще большую обиду, обида перерастет в конфликт, но, как всегда, не захотел предотвратить все это. Лежа на диване и просматривая газеты, он попытался погасить раздражение и задремать, но газетные сообщения не оставили для этого времени. А тут оставалась еще куча телеграмм, собранных в одно место Сашкой Поскребышевым…
Сталин прямо на ковер отбросил пачку газет, откинулся и закрыл обесцвеченные годами глаза.
Итак, пятьдесят лет… Много это или мало? Много… Он мыслил и выступал с трибун с помощью метода краткого христианского катехизиса. Вопрос, ответ.
В и О. Говорили, что его отец, сапожник Джугашвили, совсем ему не отец… Вопрос: кто говорил? Говорила жена духанщика, толстая ведьма, никогда не знавшая собственной матери. Еще говорили, что путешественник из Петербурга Пржевальский, будучи на Кавказе, потерял голову из-за черноглазой жены сапожника. Кто говорил? Кому это было надобно? Говорил об этом…
Но все это чушь, жалкая дрянь! К черту! Не стоит раздумий…
Он умел останавливать, перебивать не только чужие, но и собственные мысли, слова, раздумья. Однако ж раздумья не исчезали сегодня.
Он вспоминал многие эпизоды своего полувекового пути, хотя иные из этих эпизодов хотелось забыть. Но он был не в силах этого сделать. Он помнил все, в том числе и тот позорный для него день 18 октября 1888 года!
Накануне, то есть семнадцатого, в двенадцать часов дня между станциями Борки и Тарановка Азовско-Курской железной дороги с насыпи высотой в шесть саженей обрушился пассажирский поезд. Вагоны один за другим с треском валились друг на друга. Ринулся под откос и вагон-столовая, где, возвращаясь с Кавказа, завтракал император Александр с семьею и свитой. Газеты того времени сообщали, что из разрушенного вагона извлекли икону Спаса-нерукотворного и что стекло иконы оказалось целым. Царь якобы выбрался из-под вагонных обломков и тотчас распорядился спасать оставшихся в живых пассажиров, императрица будто бы сама оказывала помощь раненым. На станции Лозовой, в честь спасения царской семьи, было благодарственное молебствие, затем отпевание погибших. На другой день вся Россия возносила молитвы, миллионы людей ставили свечи в церквах, вспоминали гибель Александра Второго — реформатора и освободителя крепостных. Опустив уже тогда тяжелые, словно у гоголевского Вия, веки, старательно, с чувством молился и девятилетний мальчик-грузин, учащийся одного из духовных училищ на юге империи. Худой и маленький, этот мальчик, как большинство недоростков, имел привычку задирать при ходьбе голову, на молебне же он держал ее чуть наклоненной вперед. Он поминутно сглатывал копившийся комочек молитвенного восторга…
Источник
А на местах задолго до постановления уже свирепствовали местные, не имевшие терпения башибузуки. Уже стоял на земле великий плач — во многих местах Поволжья и Украины лились не только слезы, но и кровь.
Недолго же торговался Сталин, покупая себе место на троне! Он заплатил за него чистейшей в основном русской и украинской кровью, не зря же гуляла по Москве хитрая байка о перенаселенности русских и украинских деревень.
Но чтобы осуществить планы яковлевской комиссии, нужны были кадры и кадры…
II
Арсентий Шиловский возвращался домой глубокой ночью последним трамваем. Гремящий на стыках пустой вагон мотало из стороны в сторону, как мотает пьяного забулдыгу. Колеса бесцеремонно стучали по морозной спящей Москве. Кондуктор дремала на своем сиденье. Она забывала дергать за бечевку звонка, но не забывала прижимать к животу брезентовую сумку с монетами. Шиловский не дождался остановки, спрыгнул на повороте.
Сразу после неожиданной и скоропостижной смерти матери он переехал с Шаболовки. Дом «бывшего Зайцева» сменился красивым дворянским особняком, здесь Шиловский с женой Клавой занимали две комнаты. Но такие обширные были эти комнаты, так высоки потолки, что Арсентию становилось не по себе, когда он просыпался среди ночи. Лепнина вокруг большой потолочной люстры была такая внушительная, так велик был общий объем, что становилось холодно, неуютно, словно ночуешь не дома, а на вокзале. И тогда Шиловский жалел старую квартиру, где они жили когда-то с матерью и Петькой Гириным. Клава тоже не очень любила новое жилье: она по-прежнему работала на заводе, было далеко ездить.
Шиловский вспоминал былое время как счастливое и безбедное. Литейная гарь еще не выветрилась из старой его одежды, которую Клава хранила в кладовке. Еще снились по ночам опоки и стержни, снились кипящая, как самовар, полыхающая жаром вагранка и добрый, хотя и хмурый с виду, вагранщик Гусев. Ни мастера Малышева, ни Гусева, ни завалыцика Гришку Устименко Шиловский ни разу не встретил с тех пор, как ушел с завода…
А почему он ушел с завода?
Трамвай рассыпал с дуги сноп красноватых искр, напомнивших литейный цех. Приглушенный морозом стук железа исчез. Арсентий поднял воротник полушубка, сшитого на манер украинской бекеши. Но его не радовал теперь ни этот полушубок, ни новая форма, висевшая больше в шкафу, ни эта квартира в красивом московском доме. Казалось, что и жена Клава стала с тех пор другая…
Однажды, вскоре после того, как Петька исчез из Москвы, а Клава окончательно перебралась на другую кровать, Арсентия вызвали в органы. Лысый, кареглазый, с горбатым носом человек сказал: «Сядьте и подумайте, зачем мы вас вызвали!» Сказал и ушел. Шиловский минут двадцать сидел один, вспоминая свои грехи и проступки. Пришел другой начальник, еще более строгий и молчаливый. Шиловского держали много часов подряд, выспрашивая про Петьку Гирина. Под конец ему предложили все рассказанное изложить на бумаге. Шиловский добросовестно записал все, что знал о Гирине, но его тут же прошиб холодный пот: отпуская его, молчаливый допросчик как бы мимоходом сказал, что Шиловский обвиняется в связи с врагами пролетарского государства… Пораженный Шиловский не знал, что говорить.
— Но вы не беспокойтесь, — сказали ему напоследок, — У вас есть время все обдумать и во всем разобраться.
В чем надо было разбираться? Не знал он, в чем, но начал все-таки усиленно разбираться.
Через две недели, когда бригада формовщиков переходила на новую модель, в самый неподходящий момент измученного всевозможными предположениями Шиловского вызвали в райком. Билинкис без всяких предисловий объявил, что приходили из органов, интересовались личным делом. Шиловскому было приказано никуда не уезжать и ждать нового вызова. Арсентий похудел за те дни, от волнений на коже появилась какая-то сыпь. Работа валилась из рук. Во время третьего вызова ему сказали, что партия, в связи с особым заданием, отзывает его с завода. Будто упала гора с плеч! Если не считать некоторого тщеславия, связанного с особым к нему доверием, с особым предстоящим заданием, он ничего не испытывал, был рад, что все кончилось, и с легким сердцем ушел из дома по четвертому вызову…
С тех пор он не возвращался в литейный цех. Много недель жил Шиловский на казарменном положении. Домой появлялся редко. Спецгруппа из полутора десятков выдвиженцев изучала политграмоту, а также огнестрельное оружие и приемы силовой борьбы. Клава и Лаврентьевна были строго-настрого предупреждены, они ничего не должны были знать. На вопросы знакомых они отвечали, что Арсентий в отпуске, в Крыму. Вначале они и впрямь думали, что он в Крыму.
«Н-да, Крым… — Арсентий крякнул, разбираясь в ключах. — Это такой Крым, что…»
Он не додумал мысленной фразы, через черный ход прошел на парадную лестницу особняка и поднялся на второй этаж. Везде было темно, а его фонарик с севшей батарейкой еле светил. Арсентий только хотел другим ключом открыть высокую дверь, как вдруг в темном конце коридора обозначилась чья-то фигура. Шиловский замер, готовый к отпору, но человек громким шепотом успокоил его:
— Товарищ Шиловский? Тише. Где вы были? Я жду вас третий час. Вам пакет. Распишитесь…
Незнакомец своим довольно ярким фонариком осветил ведомость, подал собственный карандаш. Электрический фонарик был признаком исключительности и высокого положения. Шиловский почтительно расписался. Нарочный козырнул и, видимо, не путаясь в ключах, бесшумно исчез внизу.
Пакет. Сколько было таких пакетов за эту осень! Арсентий разорвал клееный из толстой бумаги конверт, светя умирающим фонариком, прочитал записку с надписью: «Сверхсекретно. По прочтении уничтожить». Он скомкал бумажку. Там ничего не было, кроме предложения явиться к десяти часам по определенному адресу. Ясно, что предстояла командировка. В отпуск. В Крым…
Он прошел в общую кухню, чиркнул спичкой. Положил бумажный комочек на примусную головку и той же не успевшей погаснуть спичкой поджег. С полминуты глядел на горящий комочек, а когда тот догорел, сдунул бумажный пепел с примуса и прошел в комнату.
У кровати, на которой, тихо похрапывая, спала жена Клава, Арсентий присел на стул, снял хромовый, пахнущий гуталином сапог, и задумался. Долго сидел он так, забыв про другую обутую ногу. Он сидел так, зная, что ему опять не уснуть, сидел и, как ему представлялось, думал о своей жизни. На самом деле в его голове ничего не было всерьез осмысленного. «Кому-то надо…» — твердил он про себя.
Картины прошедшего дня и ночи яркими, вполне реальными и все же кошмарными видениями опять одна за одной всплывали перед глазами. Руки его тряслись, когда он снял второй сапог и, не желая будить жену, полулежа разместился в старом глубоком кресле. Сколько времени? Он пытался уснуть, закрыть глаза. Но стоило ему зажмуриться, как вновь и вновь перед ним явственно обозначалась лохматая женская голова, расширенные от ужаса глаза и, наконец, толстые ноги, широко и бесстыдно раздвинутые на цементном полу. «Органы, — мелькнуло в его туманном, бесконечно усталом мозгу. — Тут и ту… органы…» Как началось все это? Нет, ему не вспомнить бы все по порядку, если б даже он захотел вспомнить все это.
Только что завершился шахтинский процесс, начинались дела с промпартией. После нескольких недель казарменного положения его вместе с другими отобранными однокашниками отправили в охрану Лефортова, затем так же быстро отозвали и ежедневно подолгу беседовали с каждым из них. Темой бесед неизменно было одно и то же: близость войны, классовое самосознание и важность особого партийного поручения, особой ответственности, которая отныне возлагается на него, Арсентия Шиловского.
К тому времени он уже превосходно владел маузером.
Однажды руководитель группы, одетый в тот день в гражданское, привез его в незнакомое место. Они ехали в закрытой безоконной машине, ехали долго, и Арсентий не смог бы определить, где они находятся. Машина остановилась в каком-то дворе, задом к лестнице, ведущей в подвальное помещение. Когда спустились вниз и вошли за окованную железом дверь, начальник панибратски хлопнул Шиловского по спине:
Источник
Конец
Книга закончилась. Надеемся, Вы провели время с удовольствием!
Поделитесь, пожалуйста, своими впечатлениями:
1
1
5
10
16
23
31
36
42
48
54
58
58
62
66
71
75
79
84
92
97
100
104
109
114
114
118
124
129
136
141
146
151
156
160
165
Ширина: 100%
Выравнивать текст
Источник