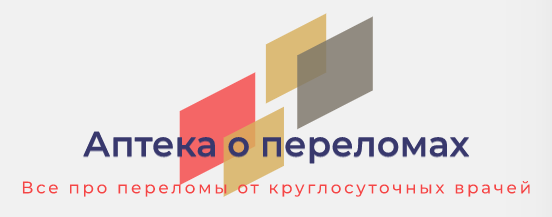Белов кануны час шестый год великого перелома

Эпопея крестьянской Голгофы
(«Кануны», «Год великого перелома», «Час шестый»)
«Роман «Кануны» – это правда, которую Василий Белов не мог не сказать, как не мог не строить мельницу его герой Павел Пачин. Это вещи одного порядка – совести и избранности мастера: будь ты! Это твоя обязанность. Смысл жизни состоит в том, чтобы молоть на хлебы выращенное зерно и говорить на выправку от зла существующую истину».
Валентин Распутин.
«Россия, Русь… И что за страна, откуда взялась? Отчего так безжалостна к себе и своим сыновьям, где пределы её несметных страданий? А ведь что за народ! Как прост и бесхитростен, ожидая того же от всех и каждого».
Василий Белов.
Творческое развитие, поиск новых форм, естественно привели Василия Белова к роману.
Легко сейчас сказать – «привели к роману». Не легко браться за роман, не зная, на какой срок впрягаешься в работу, и каков будет результат. Но Белов был бы не Белов, если бы не решился…
И вот он, зачин, сразу предполагающий широкое, раздольное повествование: «Кривой Носопырь лежал на боку, и широкие, словно вешнее половодье, сны окружали его. Во снах он снова думал свои вольные думы. Слушал себя и дивился: долог, многочуден мир, по обе стороны, по ту и по эту…»
Герой романа думает свои вольные думы накануне великого потрясения, великого переворота и перелома крестьянской-христианской жизни – коллективизации. Сам же автор взялся за свой роман (предполагал ли уже, что выльется эта работа в многотомную эпопею?), когда взгляд на этот перелом дано уже утвердился в официальной литературе и исторической науке, но задумал писать тоже вольно без оглядки на официальный взгляд, а скорее – и не мог по-другому, и не хотел…
Первая черновая рукопись романа «Кануны» была написана уже в 1971 году.
Кстати, нигде я не встречал объяснения, почему Белов остановился именно на этом названии. Неизвестно были ли другие варианты. Мне (это лично моё мнение и ощущение) не нравится это название, хотя уже стало привычным. Может, это из детства, когда стояла в нашем домашнем очень скромном книжном шкафу книжка с коричневой обложкой и непонятным названием. Да, я просто не понимал значение слова… Потом ещё добавилось знание весьма (опять же – по-моему) неудачного, слишком прямолинейного и публицистичного романа Тургенева «Накануне»…
А сейчас возражу себе – «Кануны» очень хорошее и правильное название. Когда понимаешь, что это лишь часть, зачин огромного полотна. Потому что за «Канунами» (получившими от автора жанровое обозначение «хроника конца 20-х годов»), последовал «Год великого перелома» (хроника начала 30-х годов). И завершилось полотно романом «Час шестый», давшим название всей эпопее.
Вот истинное название этого труда, равного жизни, вобравшего в себя и «Привычное дело» и «Лад» – «Час шестый»!
Голгофа русского крестьянства, смерть, но и воскрешение его, и жизнь вечная – вот суть, пожалуй, и всего творчества Василия Белова.
«Кануны» эпиграфа не имеют (вольный зачин романа и есть эпиграф). К «Году великого перелома» эпиграфом поставлены следующие цитаты из Фр. Энгельса: «Всеобщая война, которая разразится, раздробит славянский союз и уничтожит эти мелкие тупоголовые национальности вплоть до их имени включительно.
Да, ближайшая всемирная война сотрёт с лица земли не только реакционные классы и династии, но и целые реакционные народы, и это также будет прогрессом».
«… Мы знаем теперь, где сосредоточены враги революции: в России и в славянских землях Австрии… Мы знаем, что нам делать: истребительная война и безудержный террор».
И весь роман «Год великого перелома» – собственно, раскрытие этих цитат, на примерах происходившего в России в 1929 году в глухих деревнях и в кремлёвских кабинетах: истребительная война и безудержный террор. Против русского крестьянина.
«Хроника» Белова обретает местами вид летописи. Однажды даже и буквально: «И когда б в стране имелся хотя бы один-единственный не униженный монах-летописец, может, появилась бы в летописном свитке такая запись: «В лето одна тысяча девятьсот двадцать девятого года в Филиппов пост попущением Господним сын гродненского аптекаря Яков Аркадьевич Эпштейн (Яковлев) поставлен бысть в Московском Кремле комиссаром над всеми христианы и землепашцы».
Более Белов не прибегал к подобному приёму, но слог его постепенно поднимается и выше: от летописи, к житию…
И уже третья заключительная часть «Час шестый», давшая название всей трилогии, начинается эпиграфом Евангельским: «Бе… час яко шестый… тогда предаде Его им, да распнется… И неся Крест Свой, изыде Иисус на глаголемое лобное место, идеже пропяша Его». (Ин. 19, 14 – 18).
И уже абсолютно ясно, что трилогия: это не хроника (хотя хроника и хронология там присутствует), это роман-эпопея, сопоставимый с классическими образцами – «Война и мир», «Тихий Дон». И уж эпопея – это точно не «Кануны», не «Год великого перелома», это «Час шестый»…
Надо учитывать, что публиковалось и издавалось это полотно, разными «кусками», в разных конфигурациях, отсюда и не всегда понятная композиция, и восприятие читателями – какие-то главы пропущены, что-то прочитано с нарушением хронологии, и лишь в середине 90-х появилась возможность прочитать трилогию целиком.
Труд построения эпопеи происходил на глазах читателей. Начавшись в 70-71-м, он продолжался до второй половины 90-х. Без малого тридцать лет!
Вот что вспоминал поэт, многолетний друг Белова и секретарь Вологодской писательской организации Александр Романов. «Помню, как еще в 1971 году Василий Белов попросил меня прочитать первоначальную рукопись этого романа. Я, уже знавший от своей матери страшные истории раскулачивания и всякого местного бесовства, казалось, мог бы и поспокойнее воспринимать беловскую рукопись, однако она втянула меня в такой круговорот событий, что позабыл и самого себя.
Белов просил беспощадно отмечать в рукописи слабости и огрехи, и я над каждой страницей вскидывал свой бдительный карандаш, но когда закончил «ревизию», то увидел на полях лишь знаки восторга. И даже встревожился за свою восклицательность: Белов может подумать, что читал я невнимательно или подобострастно. И взялся за повторное чтение, и обнаружил, что беловская проза – это не зеркальное отражение, а пучковый свет народной жизни. Он прожигает толщу будничности до неумирающих истин. И прошлое никогда не затухает вовсе: оно или подкашивает настоящее, или судит будущее. Время – по Василию Белову – это энергия народной нравственности. Если нравственность народа падает, то загнивает жизнь, и время теряет свою будущность.
Нет, не нашел я никакой фальши ни при втором, ни третьем прочтении, но каков же был удар, когда эту же рукопись спустя полгода Василий Белов показал мне испещренной сплошь грозными пометками. Она просматривалась в ЦК, в идеологическом ведомстве М. Суслова, и была, по сути, зарублена…»
Действительно, первая журнальная публикация «Канунов» состоялась с большими купюрами, особенно в тех моментах, где речь шла о Сталине, Бухарине, Калинине… В книжном издании 70-х годов страницы с этими героями появляются, но, вероятно, далеко не в первоначальном объёме. Сам Белов говорил (мне передавали эти слова): «Если взяться восстанавливать «Кануны» в полном виде, жизни уже не хватит»… Во время работы над второй книгой трилогии «Год великого перелома», в середине 80-х, Белов мог уже без оглядки на идеологических церберов писать и о Сталине, и о Троцком… Хотя в те годы уже не принято было критиковать таких «верных ленинцев», как Бухарин…
Но Белов, понимал суть этих людей и в семидесятые и позже. Ещё в «Канунах» появляется играющий под Ильича «Бухарчик» и никакой нет к нему авторской симпатии, хотя вряд ли читал Василий Иванович, например, такие слова Николая Бухарина: «насилие во всех его видах, вплоть до расстрелов, является наилучшим способом переделки человеческого материала капиталистического общества в социалистического человека». Что ж – теоретические выкладки Бухарина вполне реализовались в судьбе русского народа (да и других народов России), но не обошла эта судьба и самого теоретика, закончившего земной путь у подвальной стенки.
Без какой либо симпатии представлен в трилогии Сталин. Не испытывал к грозному генсеку симпатий Василий Белов. И отношение такое чувствовалось через страницы «Канунов», написанных в 70-е, когда вообще о Сталине предпочитали не вспоминать; и на страницах «Года великого перелома», написанных в те годы, когда Сталина принято было проклинать; и со страниц третьей части эпопеи, писавшейся в 90-е, когда многие из близких Белову писателей и общественных деятелей («патриотический лагерь») подняли имя Сталина на своих знамёнах (кое-кто и из недавних «антисоветчиков» запел «Песню о Сталине»). Нет, не любил Белов Сталина, резонно считая, что руководитель государства в ответе за политику, проводимую этим государством в отношении своего народа. Недаром же помнил Василий Иванович всю жизнь и писал об этом: «мой отец ещё до войны певал такую песенку: У товарища у Сталина
Глаза наискосок,
До чего довел Россию,
Нету соли на кусок».
И сегодня Василий Белов со своим взглядом на Сталина оказывается неудобен новому культу личности …
Отвлекусь от Белова и его романа: нынешний лиходей-чиновник, думающий лишь о своём кармане, активный исполнитель так называемой «мусорной реформы» (проводимой за счёт народа и не в интересах народа), фотографируется на фоне бюста Сталина и подписывает фото: «С кем из политических деятелей сфотографироваться? Конечно же с Иосифом Виссарионовичем Сталиным»… Во-первых, именно такие в середине 80-х проклинали Сталина, в тридцатые – воспевали его. Но, во-вторых, за совершаемые деяния при Сталине-то окончили бы свой путь там же, где и «Бухарчик»…
Как же всё это отвратительно… И как же всего этого (официозной лжи и личной лжи) не принимал Белов!
«Для того, чтобы выстоять, чтобы выдержать страдания и муки, внемли себе. Выключи радио и телевизор со всей его видеотехникой. Отбрось в сторону лживый газетный лист, выбрось его на свалку, если не хочешь быть обманутым».
«Бесстыдство, с которым депутаты и ельцинские госчиновники сами себе устанавливают зарплату и назначают пенсию, поистине бесподобно. Они сами себя премируют, сами себя награждают и повышают в должности. Правда, для того, чтобы повысили, т. е. чтобы твой социальный статус укрепился еще больше, надо верно служить вышестоящему чиновнику, обладать достаточно высоким чувством опасности, хитростью и подхалимским талантом.
В этой системе вовсе не обязательны высокие деловые качества. Хватит иной раз и того, что ты выучился (выучилась) угодничать, держать язык за зубами и подмахивать шулерские бумаги. Не способен (не способна) на это — снимут. Понизят. Или вообще укажут на дверь. Способов сокращения достаточно…»
Писал это Василий Иванович в 90-е. Не актуальны разве эти слова сегодня, через четверть века? Ещё как!..
Но вернёмся к беловской трилогии.
Хотя размах в панораме русской жизни романа широк: от нищего Носопыря до Сталина, от Данилы Пачина до Михаила Калинина, от кособокой баньки до кремлёвского кабинета, главными героями эпопеи являются всё же русские крестьяне. Показаны они, по большей части, в привычной для них обстановке деревни и крестьянских работ, но также и в городе, и на лесозаготовках, и в литейном цехе московского завода, и в тюрьме, и в армии – везде, куда забрасывала судьба сельских жителей.
Картины русского лада: природы, труда, жизненного уклада показаны с высочайшей художественной силой. Но с такой же силой показаны и картины разлада.
«Великий перелом» случился, но не это был перелом не «вековой отсталости», как писали в газетах того времени, а перелом станового хребта нации, слом того самого «лада»… Его, лада-то, может, не так уж много было и при царе-батюшке, и во все времена, но знание, понимание этого лада, основанного на традиционной христианской, православной нравственности – было. И вот это знание, эту тягу к ладу – уничтожили и физически в лице его, лада, носителей и хранителей, и морально, и политически… Казалось, что уничтожили, подменив какой-то новой советской или коммунистической нравственностью, подменив лад колхозным строем… В ладу жить ладно, а вот в строю… В строю только воевать наверное удобно (и то не всегда) – вот и пошли у нас вместо овеянных песнями и традициями сенокосов, и сборов урожая – «битвы за хлеб», «весенне-полевые работы», «уборочные кампании»…
И лишь в 80-х годах Василий Белов собрал воедино осколки того векового уклада и выдал свой, наш, русский «Лад»…
Удивительно, но получается, что он сначала освоил этот лад художественно: в «Канунах», в «Привычном деле», в рассказах, а уже потом и публицистически – в знаменитых очерках о народной эстетике… Но о них разговор отдельный…
«Год великого перелома» – это уже разлад русской жизни…
Приведу отрывок из документальной повести В. И. Белова «Невозвратные годы»… Возможно, то о чём здесь пишет Белов, помогло в работе именно над второй книгой эпопеи…
«Александр Павлович Кузнецов был жителем Вологодского уезда – вологодский крестьянин, на собственном опыте испытал всё, что творили с крестьянством. Однажды он писал мне: «В 1920 году среди крестьян земля была разделена по едокам. В помощь пришло кредитное товарищество. Отпускали мужикам в кредит железные бороны, плуги, веялки и даже ручные и конноприводные молотилки. Были рассадники племенного животноводства. В 1924-25 годах был выпущен закон о хуторской и отрубной системе землепользования. Летом 1929 года прошли скотозаготовки. Скупали по твёрдым государственным ценам крестьянских коров. До этого периода крестьяне держали от 2 до 7 коров. Теперь в маленькой семье из 2 коров забирали одну. Из 4 – двух. (По семь к этому времени уже не держали.) Скот куда-то угнали. В сентябре распределили рабочих на строительство скотных дворов на ст. Дикую. Оказывается, всё лето тысячи коров разгуливали по лесу. Я тоже был назначен на строительство скотных дворов и поэтому знаю. Скот осенью загнали в один огромный загон. Дождь, грязь по брюхо. Потом пошёл снег, а мы – кто ямы под столбы копает, кто столбы ставит, кто лес рубит, кто подвозит. Конца стройки я не дождался. Уехал учиться в Грязовецкий техникум. Соседи, которые там остались, говорили, что скот весь погиб (туберкулёз, бруцеллёз).
С 1929 по 1931 год шла коллективизация в два этапа. Первый этап – осень 1929 года – «сталинская коллективизация на основе ликвидации кулачества как класса». Потом вышла статья Сталина «Головокружение от успехов» – обвинили низы. Колхозы распались. С 1931 по 1932-й – новая волна коллективизации (уже «осознавших»)». Эта волна сметала всё на своем пути. Особенно досталось хуторянам.
У меня есть черновые наброски Александра Павловича к поэме о том периоде:
…В былые годы сколько деревень
Ютилось под морозным синим небом.
В работе не испытывая лень,
Питаясь лишь картофелем и хлебом,
Зато привольем – пару поддавай!
И рыба, и грибы, и сенокосы.
И ширь лесов да псов протяжный лай,
Да по утрам усердно свищут косы.
Крестьянский поэт А. П. Кузнецов описывает, своеобразный период, когда крестьянам разрешалось выходить на отруба и селиться на хуторах: такие мужики освобождались от налогов до пяти лет и быстро вставали на ноги. Вместе с ними вставала на ноги и вся Россия.
Кто трудиться мог,
Не валявничатъ,
Не валился с ног,
Стал хозяйничать…
Но разве могла позволить и дальше так развиваться событиям троцкистская братия?
На четвёртый год
Всех повесткою
На крестьянский сход
И с невесткою.
Зашумела Русь
Широко вокруг…
Рассказать боюсь
Я про то, мой друг.
Тучи грозные
Понависли враз.
Дни морозные
Придавили нас.
И куда ни глянь,
Всюду новости.
Только плач стоит
По всей волости…
Не закончил свою поэму Александр Павлович!..
Конечно, простой мужик вроде Кузнецова А. П. не знал и не знает, что и как говаривал Сергей Есенин о крестьянстве:
Он знает то, что город плут,
Где даром пьют, где даром жрут,
Куда весь хлеб его везут,
Расправой всякою грозя,
Ему не давши ни гвоздя.
Откуда А. П. Кузнецову знать, почему С. А. Есенин выбросил эти строки из поэмы «Гуляй-Поле»? Стихотворение «Мир таинственный, мир мой древний» тоже было неведомо даже искушённому в поэзии А. П. Кузнецову. Лежало оно, как говорится, за семью замками. Что говорить о стихотворениях, если и сама гибель Есенина содержалась в глубочайшей тайне! Клевету на поэта (он, дескать, был самоубийца) поддержали специалисты с весьма высокими академическими званиями.
Это же надо так! Убили Есенина, Клычкова, Клюева, Ганина, Павла Васильева, и никто не ответил за зверство хотя бы по тогдашним законам. А за что опалён троцкистским морозом цвет русской поэзии? Поэтический же чертополох и до сих пор махрово лопушится по всем пустырям и шоссейным обочинам».
«Троцкистским морозом» опалило не только цвет русской поэзии – цвет русского крестьянства погиб на Соловках и берегах ледяной Печеры. Впрочем, это Василий Иванович знал и описал гораздо лучше меня… А всяческий «чертополох» и сегодня «махрово лопушится» на всех путях истинно русской жизни…
И так – «Год великого перелома» – разлад русской жизни.
«Час шестый» – третья книга эпопеи – это русская Голгофа…
По ходу работы над трилогией менялся ведь и Белов, и его взгляд на мир. Он был сыном своего времени, был коммунистом. А пришёл к вере, к Богу.
«Да, Роговы, Пачины, Мироновы жили на русской земле. Много их трудилось. Миллионы! Но победили Сопроновы. Эти живы и поныне! Скрипя зубами и щурясь мутными глазами, они белеют лицами, когда видят, что власть уходит из их рук. Да, образ сопроновщины, созданный Василием Беловым, страшен и живуч. Этот образ знаменует, по существу, весь наш многострадальный двадцатый век, и беловские «Кануны» – это такое художественное и философское постижение судьбы русского народа, что трагизм истин, раскрытых писателем, остерегающе поучителен и для всего человечества», – писал Александр Романов. И вот тут я не соглашусь с ним. Нет, не победила сопроновщина. Точнее – она победила лишь внешне. Победил по высшему счету строитель мельницы Павел Пачин. Победил дедко Никита Рогов…
Этот дедко Никита из поначалу почти второстепенного героя в третьей части становится героем главным и совершает, смертию смерть поправ, высший подвиг – погибает за други своя, спасает ценой своей жизни Павла Пачина-Рогова…
Он, Павел и подобные ему, всё же выжили, перетерпели… И, между прочим, именно они ещё успели победить и в Великой Отечественной…
Низкий поклон им за подвиг их жизни. Низкий поклон Василию Белову за подвиг создания эпопеи «Час шестый».
Источник

Священник Василий Секачев
Во вторник, 4 декабря, на 81-м году жизни
скончался вологодский писатель Василий Белов .
В память о писателе — рассказ-рецензия священника Василия Секачева на трилогию Белова о коллективизации.
Этим летом я прочел трилогию Василия Белова о коллективизации. Давая гимназистам задание на лето, я увидел в списке рекомендуемой литературы «Кануны» и вспомнил, что было еще продолжение. Порывшись в библиотеке, обнаружил не только вторую, но и третью книгу, о которой вовсе не знал. Это были «Год великого перелома» и «Час шестый». Вскоре я понял, что и первую книгу раньше не читал.
Меня ожидало увлекательное и вместе с тем не вполне легкое чтение. Из вологодской деревни Шибанихи, которая делается читателю такой близкой и почти родной (иногда кажется даже, что Белов прописал тебя там), нам приходится следовать за героями повествования, русскими крестьянами, в северные тюрьмы, в страшную печорскую ссылку, на строительство Беломорканала. В ставших привычными вологодских краях приходится теперь видеть несчастных раскулаченных с Украины — женщин и девушек, которых пригнали на север в украинских красных сарафанах и черевичках.
Автор раскрывает перед нами страницы русской драмы, зная ее не понаслышке. Уроженец такой же вологодской деревни, Василий Иванович Белов (он родился в 1932 году) с детства общался с живыми свидетелями и участниками этой драмы, от них воспринял и дух живой — все-таки до конца так и не погубленной коллективизаторами — старины.

Василий Белов
Видя обрушение прошлого, отчетливее понимаешь, сколько же беспорядка, потерянности, опустошенности вошло в жизнь нашего народа с исчезновением крестьянской общины и всего прежнего уклада деревенской жизни, в которой авторитет стариков был силен, семейные узы были крепкими, мужская дружба — нерушимой, какими же мы все теперь стали сиротами и бомжами, как пусто стало в России без тех настоящих людей, которых с такой неподдельной любовью представил нам автор.
Трилогия Василия Белова, вызвав множество глубоких, трагических и вместе с тем светлых переживаний, оставила все-таки и определенный осадок, из-за чего я так и не порекомендовал детям читать вторую и третью книги. Показывая, и достаточно убедительно, что гибель русской деревни была обусловлена и действиями самих крестьян: их участием во вседозволенной Гражданской войне на стороне красных, оскудением их веры, ослаблением прилежания к храму (в том числе и у представителей духовенства), — автор не избежал конспирологического соблазна, поиска иудо-масонского заговора и борьбы с ним товарища Сталина. На самом деле, Белов до конца остается крестьянином, который демонизирует городской мир, населяя его фантастическими чудовищами и невиданными ангелами. К чести автора следует сказать, что все соответствующие места в последних двух книгах (в «Канунах» их нет) сразу бросаются в глаза и безболезненно перелистываются.
А вот ради таких мест, я думаю, все можно простить автору:
«Печора синела своими широченными плесами. Буксир надрывался и выбивался из сил, заглушая мужские крики и женский вой, периодами доносящийся со всех трех барж с ссыльнопереселенцами. Молча, равнодушно слушали эти звуки песчаные берега, потому что сама смерть плыла между островов и песчаных кос по бескрайней равнине. И вдруг в эту монотонно-печальную какофонию пробилось нечто совсем несхожее и непонятное, нечто противоречивое, прекрасное и необъяснимое. Мелодия! Она вмешалась в эти безобразные вопли, и они стали стихать. Отступили, исчезли. Казалось, что даже буксирный гул смирился и опустился в речные глубины. Одна мелодия плыла на юг, подгоняемая северным ветром, одна она реяла над великой рекой Печорой. Басовые рокочущие звуки заворожили реку:
Вниз по матушке по Волге…
По Волге
По широкому раздолью,
Да раздолью…
Все отчетливо слышали голос отца Николая…
…Ветер летел с Ледовитого океана, но Печора не подчинялась даже холодным океанским ветрам. Она была величественна и спокойна».
священник Василий СЕКАЧЕВ
Источник